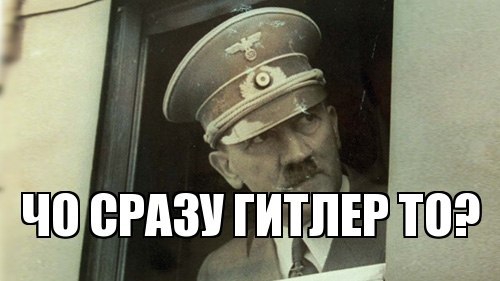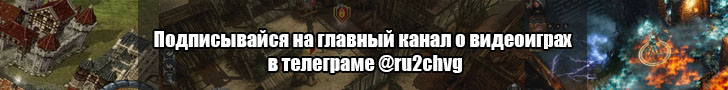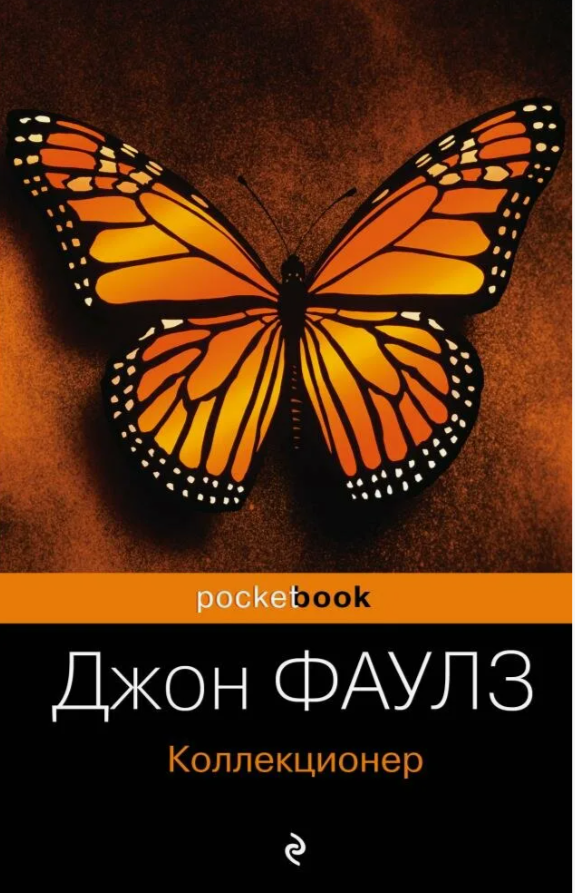ищу с кем выпустить сборник рассказов и дневников о инцельском детстве, детских психушках и травле
Аноним
13/11/25 Чтв 12:16:59
№
1